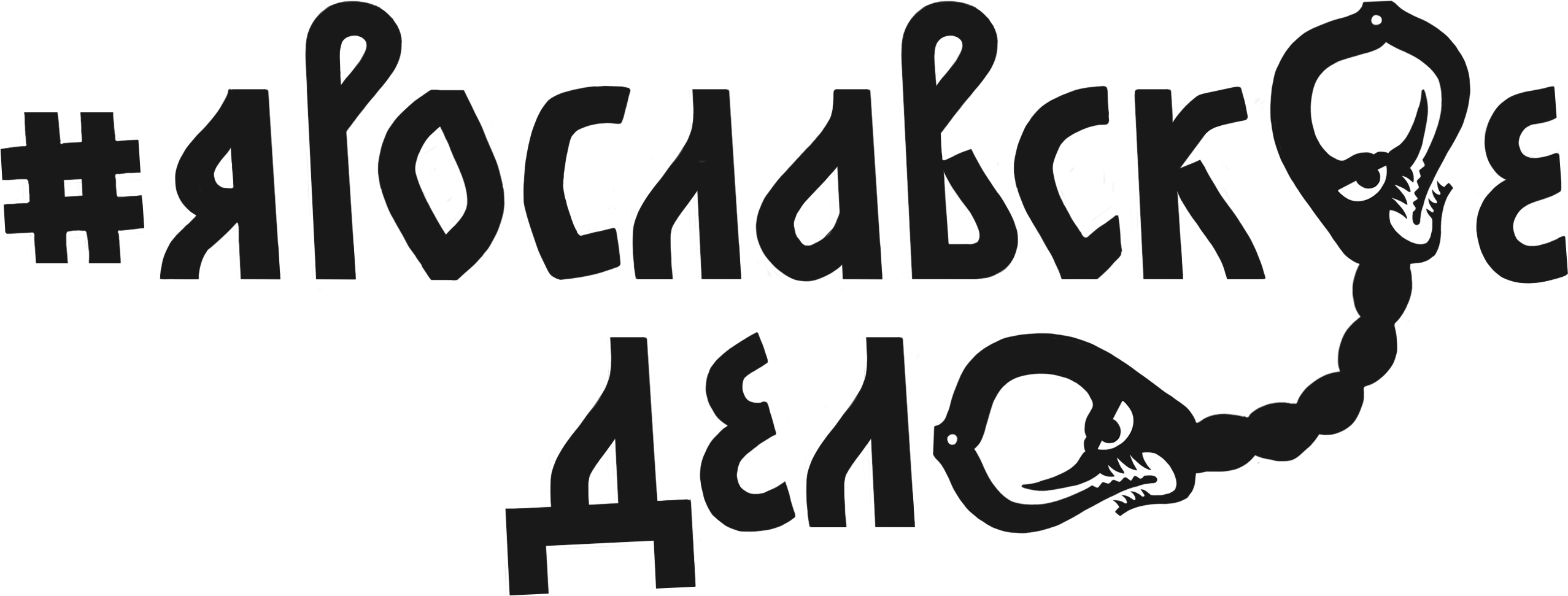Сотрудникам ИК-1«неприятно видеть», как пытают Евгения Макарова. В суде они неохотно называют имена коллег, участвующих в пытках

Слушания дела о пытках Евгения Макарова начинаются не вовремя – конвой с задержкой привозит подсудимых. План сегодня такой – допросить в качестве свидетелей сотрудников колонии, которые не участвовали в пытках заключенного. Некоторые из них были очевидцами.
Первым допрашивают свидетеля Василия Трубецкого , которого суд планировал допросить его 26 февраля, но не успел. Летом 2017 года Трубецкой проходил в ИК-1 стажировку. Работать в колонии впоследствии не стал. На вопрос прокурора «Из-за этого эпизода [избиения Макарова]?», свидетель ответит утвердительно.
Трубецкой рассказывает, что в день, когда пытали Макарова, он, проходя по коридору, услышал шум из комнаты, предназначенной для проведения воспитательной работы с заключенными. Парты в классе были сдвинуты, на них лежал арестант, а вокруг него столпились 10 сотрудников колонии. Все они кричали. В комнате Трубецкой находился недолго – 5-7 минут, после чего вышел, так как «ему стало неприятно». Могло ли массовое избиение заключенного происходить без ведома начальника колонии, он не знает. Но о случившемся, на его взгляд, коллеги руководству должны были доложить.
Другой свидетель – сотрудник ярославской колонии Сергей Гусарин путается между обязательностью и необязательностью требования докладывать начальству о произошедшем. Хотя во время дачи показаний следователю говорил, что предлагал [ныне подсудимому] Максиму Яблокову подготовить рапорт. Но получил ответ:рапорты пишутся в случае незаконного применения силы, а в случае с Макаровым все было законно. «Яблоков предложил написать в рапорте, что это яприменил силу, – рассказывал Гусарин. – Писать такой рапорт я не стал, решив, что Яблоков шутит».
Как и Трубецкой, Гусарин заходил в класс воспитательной работы, когда в нем пытали Макарова, ненадолго – на минуты три. Ему показалось, что там не было ничего противоправного, «просто применение спецсредств». Но обычной историей для колонии он назвать это не может, это – ЧП. Сейчас он уже не все помнит, испытывает сложности с тем, чтобы назвать имена избивающих. Добавляет, что Макарова потом перевели в другую камеру – в ней он был один. Перевели за тем, чтобы он не общался с другими осужденными. Гусарин видел у Макарова опухшие ноги, видел, как к заключенному приходил медработник и осматривал его.
Начальник отряда по воспитательной работе Кирилл Игнашов, которого допрашивают в качестве свидетеля следующим, тоже заходил в класс, когда там пытали Макарова. Он вспоминает, что «увидел волокиту» – кто-то удерживал[заключенного], кто-то наносил удары спецсредством или руками. Имена сотрудников, избивающих Макарова, Игнашов называет неохотно.
– Почему вы лично не присоединились к происходящему? – интересуется у него прокурор.
– Не знаю.
– Выбыли в шоке от увиденного?
– Да, растерялся.
– Это ЧП для колонии?
– Да.
Когда пытки закончились, тюремщики пригласили к Макарову фельдшера Олега Каштанова. Каштанов – еще один свидетель, которого приглашают в зал для допроса. По его словам, заключенный сидел на полу, в углу. Осужденный был в одних трусах, другой одежды на нем не было. Рядом с ним стояло неполное ведро с водой. Макаров жаловался на боль в ногах – в голенях и пятках. Фельдшеру сказали, что к заключенному были применены спецсредства, но в связи с чем не объяснили. Во время следствия Каштанов рассказывал также, что Макаров был мокрый, испытывал жар и сильные боли.
Чувствуется нежелание «сдавать» бывших коллег и у другого свидетеля Юрия Коврижных, который в июне 2017 года работал водителем начальника колонии Николаева. Подсудимый Николаев выдвинул версию, что в день избиения Макарова его не было на работе. Однако во время следствия Коврижныхговорил, что в тот день Николаев покидал колонию только на обед. Сейчас свидетель не уверен вэтом: сверять, говорит, надо с путевыми листами.
Следующее заседание назначено на 11 марта.