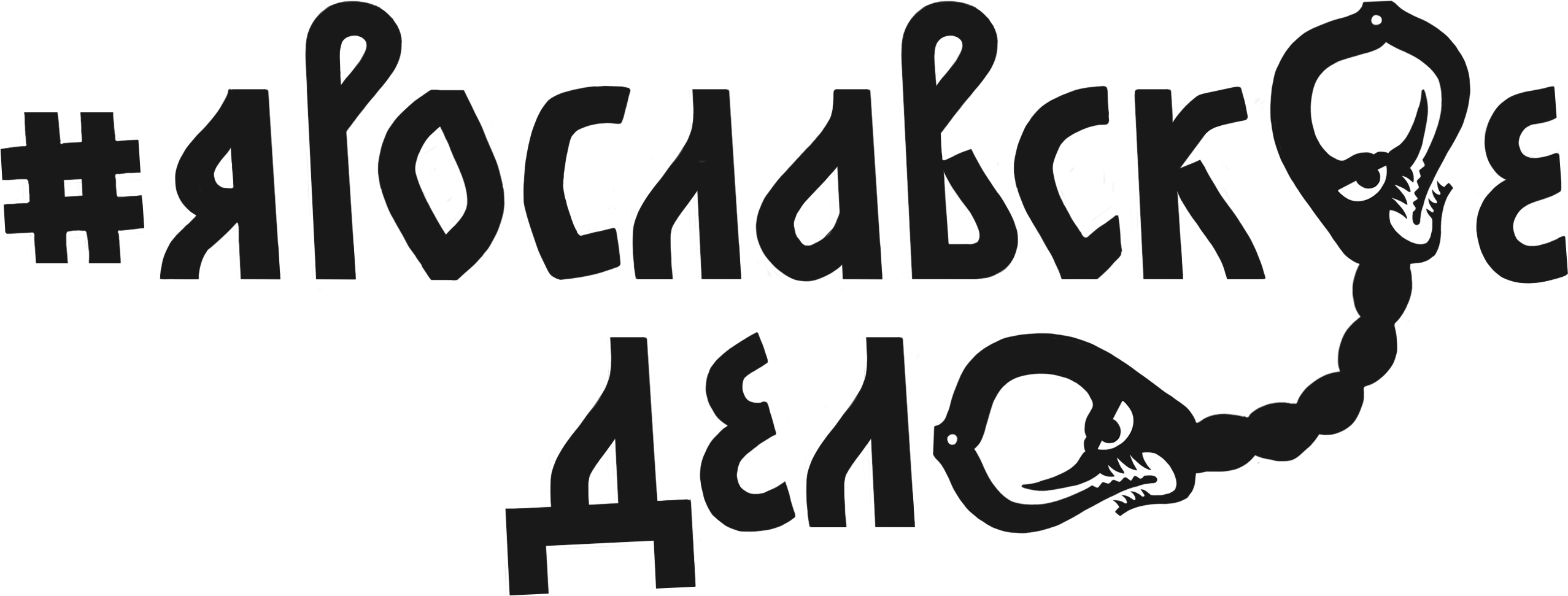История Александра Рыбакова
Когда гражданская медицина предупреждает обострение болезни, фсиновская дожидается ее развития
Текст: Анатолий Папп
Редакция: Асмик Новикова
В 2016 году 32-летнему Александру Рыбакову поставили диагноз «Хронический мегакариоцитарный лейкоз» («эссенциальная тромбоцитемия», код С92.7 по МБК-10). Это болезнь крови, при которой костный мозг вырабатывает ненормально много тромбоцитов.
В легких формах, когда превышение тромбоцитов незначительное, болезнь можно не лечить, ограничиваясь наблюдением; при значительном превышении показателей принимают лекарства, снижающие уровень тромбоцитов (гидроксикарбамид). Если показатели продолжают ухудшаться, применяют более радикальные средства, в том числе пересадку костного мозга.
Назначенное Рыбакову лечение давало неустойчивые результаты, показатели крови ухудшались. Наступила стадия, когда больной нуждался в серьезной помощи в специализированном медучреждении. К тому же одно из лекарств — Интерферон-альфа — давало сильные осложнения в виде постоянного гриппоподобного синдрома, высокого артериального давления, тахикардии и боли в суставах, что отмечалось во всех выписках. «Около 20% больных бывают вынуждены прекратить лечение, так как их сильно беспокоят повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, тошнота, потеря аппетита, гриппоподобная симптоматика» — говорится в одной из медицинских статей. Вероятно, это объясняет, почему за годы подобных мучений Рыбаков несколько раз временно прерывал прием интерферона (но не других лекарств), а потом снова к нему возвращался. От терапии в целом он никогда не отказывался.
Рыбаков наблюдался в пермской Городской поликлинике №12 и Городской клинической больнице им. Гринберга. С февраля 2019 года он был признан инвалидом 2-й группы бессрочно.
В марте 2020 года главным гематологом пермской ГКБ им. Гринберга была намечена его госпитализация для интенсификации лечения и возможной трансплантации костного мозга, однако, из-за «эпидемической обстановки» она была отложена.
В октябре 2020 года Александр Рыбаков был осужден Соликамским городским судом Пермского края по «наркотической» статье 228 Уголовного кодекса (УК РФ). Он отбывает наказание в ФКУ ИК-9, в Соликамске Пермского края.
Вследствие этого перспективы его лечения сильно изменились.
Первое освидетельствование
В мае 2021 года находившийся в этот момент в следственном изоляторе Перми Рыбаков по направлению начальника СИЗО-1 проходил медицинское освидетельствование о наличии (отсутствии) тяжелого заболевания, включенного в перечень препятствующих содержанию под стражей. Врачебная комиссия, в которую, в частности, входил А.А. Шутылев — заведующий Клинико-диагностического отделения Пермской краевой клинической больницы, главный внештатный специалист-гематолог Минздрава Пермского края — подтвердила диагноз «С 92.7 Хронический мегакариоцитарный лейкоз», но заявила, что «заболевание пациента не входит в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей».
Это утверждение не соответствует действительности: в «Перечне заболеваний, препятствующих отбыванию наказания» в п.8 значатся новообразования (код С00-С97 по МБК-10) «требующие лечения в специализированной медицинской организации (операции, лучевой терапии, химиотерапии), которое не может быть проведено по месту отбывания наказания». То есть наличия самого по себе заболевания недостаточно. Но при показаниях к лечению в специализированном стационаре с диагнозом С92.7, осужденный должен быть освобожден.
Ранее гражданские врачи Рыбакова как раз и планировали интенсифицировать лечение, провести пересадку костного мозга в условиях стационара.
Тюремная комиссия постаралась сделать такое лечение невозможным: в ее заключении значилось, что больной «в дополнительном обследовании не нуждается», только «подлежит диспансерному наблюдению у гематолога».
Здесь важно еще раз подчеркнуть: до ареста Рыбакова врачи считали, что консервативное лечение неэффективно, и требуется переход к более интенсивным методам. Подход, прописанный в заключении комиссии, прямо противоположный: «госпитализация в специализированный стационар для интенсификации лечения с последующей возможной трансплантацией костного мозга только при признаках прогрессии заболевания». Но все это время «прогрессия заболевания» уже происходила, показатели Рыбакова ухудшались: число тромбоцитов выросло с 813 тыс. до 1425 тыс. в 1 мкл (при норме 200-400 тыс. в 1 мкл), значение уровня мутации в гене ЈаК2 вырос с 23,5 % в 2015 году до 43,4 % в марте 2021 года.
Подготовка к суду
В этих условиях и сам Александр, и его мать Наталья Юренкова начали бороться за право на квалифицированную медицинскую помощь. В марте 2022 года Юренкова в интересах сына подала иск в Ленинский районный суд Перми о признании бездействия ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России из-за неоказания медицинской помощи: диагностики, аллогенной трансплантации костного мозга, комплексной и высокодозной химиотерапии, отсутствия госпитализации в специализированный стационар для интенсивного лечения. Было заявлено ходатайство о судебно-медицинской экспертизе.
К началу суда, в апреле 2022 года, истцы получили большое количество заключений разных медицинских учреждений, которые подтверждали правильность лечения и дальнейших действий. Все эти документы были представлены суду.
Чаще всего в заключениях говорилось, что начальная тактика лечения соответствует существующим протоколам, но для определения дальнейшего плана лечения требуется выполнить различные анализы, и в обязательном порядке — трепанобиопсию (изъятия участка костного мозга для того, чтобы получить данные о его способности синтезировать клетки крови):
Были получены заключения: из Кировского НИИ гематологии (25.02.2022 г.) — «Для вынесения заключения необходимы результаты исследований, в том числе трепанобиопсия (пункция костного мозга) и генетические исследования на наличие мутации JAK2»; из Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава России, Санкт-Петербург (01.03.2022 г.) — «Для того, чтобы принять решение о необходимости смены терапии, а также определить возможные показания для трансплантации костного мозга, необходимо предоставить дополнительные данные: результаты трепанобиопсии костного мозга с оценкой степени фиброза, молекулярные исследования»; из Кировского НИИ гематологии (05.04.2022 г.) — «Для уточнения варианта Рh – негативного миелопролиферативного заболевания в настоящее время не предоставлены результаты трепанобиопсии костного мозга. На основании предоставленных документов эффект от проведенной терапии недостаточен». из Федерального медицинского биофизического центра им. Бурназяна (01.10.2022 г.): «Диагноз хронического миелопролиферативного заболевания вашему сыну установлен обоснованно, рекомендованная терапия гидроксимочевиной и рекомбинантным интерфероном основывается на национальных рекомендациях и международных протоколах лечения ХМПЗ. …Имеет смысл после достижения ремиссии обсуждение вопроса о переходе на пегилированную форму рекомбинантного интерферона».

Новый диагноз: освобождение по болезни становится невозможным
Тем временем в феврале 2022 года состоялся совместный осмотр Рыбакова заведующей отделения гематологии Пермской краевой клинической больницы (ПККБ) Н.Б. Косачевой и уже упоминавшимся главным гематологом Минздрава Пермского края А.А. Шутылевым.
В новом документе диагноз Рыбакова был изменен с «Хронический мегакариоцитарный лейкоз (эссенциальная тромбоцитемия)» (МКБ-10 С 92.7) на «Миелопролиферативное заболевание. Эссенциальная тромбоцитемия» (МКБ-10 D 47.3). Новый диагноз в отличие от предыдущего ни в каких списках болезней на освобождения уже не фигурировал.
Была также изложена еще одна важная позиция: признавалось, что для уточнения диагноза «требуется выполнение дополнительного обследование (трепанобиопсия) для определения степени гиперплазии отдельных ростков кроветворения, наличие фиброза и исключения трансформации заболевания». Однако заявлялось, что в случае Рыбакова для проведения трепанобиопсии есть противопоказания, и проводить ее не следует. Вместо этого «при наличии признаков трансформации заболевания» (а за ходом болезни предлагалось следить по общему анализу крови) «рекомендовано очная консультация пациента для выполнения цитологического исследования костного мозга с определением тактики дальнейшей терапии». Если врачи специализированных институтов указывали на необходимость проведение трепанобиопсии для уточнения терапии и предотвращения перерождения заболевания в более тяжелую форму, Шутылев и Косачева наоборот предлагали сначала дождаться «признаков трансформации заболевания», а потом «записываться на консультацию».
Отметим еще раз: Шутылев и Косачева — гражданские врачи, но именно на их экспертизу ориентируются медики ФСИН при вынесении своих решений.
Второе освидетельствование
В декабре 2022 года, уже в качестве осужденного, Рыбаков проходил еще одну комиссию на предмет освобождения по болезни, на этот раз в филиале «Больница №2» МСЧ-59 ФСИН (Пермский край). Заключение Комиссии опиралось на февральские рекомендации докторов Шутылева и Косачевой. В документе, подписанном, в том числе, Шутылевым, был указан новый диагноз, не предполагающий освобождения (D 47 по МКБ-10). В заключении говорилось, что осужденный «не нуждается в постоянном уходе, не нуждается в лечении в специализированном учреждении здравоохранения, необходимо периодическое наблюдение, консультирование гематологом. По состоянию здоровья может содержаться в исправительном учреждении на общих основаниях».
Таким образом, изменение диагноза гарантировало, что освобождения Рыбакова не последует даже при необходимости «длительного лечения в условиях специализированного медицинского стационара».
Кроме того, появилось препятствие даже для проведения диагностической манипуляции: Шутылев повторно обосновал невозможность трепанобиопсии: «для уточнения диагноза у данного пациента … требуется выполнение дополнительного обследования (трепанобиопсия) … Однако, в настоящее время, у пациента имеются относительные противопоказания к проведению такой инвазивной манипуляции… Они обусловлены риском развития … геморрагических осложнений».
Из материалов более позднего разбирательства по жалобе Рыбакова выяснилось, что осужденному Рыбакову уже назначали трепанобиопсию, но она не была исполнена по вине ФСИН: «20 05 2022 г. наряд на этапирование на ТПП [транзитно-пересыльный пункт] при ФКУ ИК-29 г. Перми по медицинским показаниям для проведения трепанобиопсии в условиях отделения гематологии химиотерапии ГБУЗ «Пермская краевая клиническая больница» — не исполнен в связи с проводимыми ремонтными работами на ТПП». Наряд не был исполнен и позже: ни в 2022, ни в 2023 году. Очевидно, что никакие «ремонтные работы» не могут заблокировать на два года процесс этапирования для целой колонии (или всего края), перед нами наглядный пример того, как мало нужно, чтобы лишить осужденного права на медицинскую помощь. Не говоря про то, что надлежащая и своевременная медицинская помощь — позитивное обязательство государственного органа, исполнение которого не может зависеть от технических препятствий.
Так как подобные наряды оформляются по полгода, этот был назначен, вероятно, еще осенью 2021 года. Но в феврале 2022 года доктор Шутылев решил, что трепанобиопсия Рыбакову не требуется, и в мае 2022 года случился этот непреодолимый «ремонт».
«Несостоятельно и клинически необоснованно»
Доводы доктора Шутылева о сугубой опасности трепанобиопсии для Рыбакова опровергаются в Заключении доцента кафедры медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) кандидата медицинских наук А.В. Пекшева. Он утверждает, в частности, следующее:
– выполнение трепанобиопсии является высокотехнологичной диагностической манипуляцией, показанной А.Ю. Рыбакову для своевременного исключения такого осложнения эссенциальной тромбоцитемии, как её в трансформация в миелофиброз;
– однако, по мнению Н.Б. Косачевой и А. А. Шутылева (п. 9 РКВЛ), несмотря на признание необходимости проведения данной манипуляции в стенах ГБУЗ ПК ПККБ, ее выполнение возможно не ранее снижения показателя гематокрита у А.Ю. Рыбакова до уровня не выше 50%, с целью профилактики геморрагических осложнений в ходе инвазивных манипуляций;
– вместе с тем общеизвестно, что «абсолютных противопоказаний для выполнения трепанобиопсии костного мозга. . . не существует. Более того, прямое требование игнорировать угрозу геморрагических осложнений включено в действующие клинические рекомендации по диагностике и лечению лейкозов;
– согласно результатам лабораторного исследования … от 07.09.2022 г., число тромбоцитов составило 2066 тыс. в мкл. Таким образом, пребывание А.Ю. Рыбакова в местах лишения свободы с получением медицинской помощи в медучреждениях системы ФСИН без коррекции циторедуктивной терапии с применением риск-адаптированной стратегии по состоянию на сентябрь 2022 г. привело к 5-кратному росту максимально допустимого числа тромбоцитов в периферической крови…
Согласно п. 8 перечня заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, в него включены формы злокачественных новообразований, … не подлежащей радикальному лечению… Также в указанный перечень включены все случаи злокачественных новообразований, требующие лечения в специализированной медицинской организации, … которое не может быть проведено по месту отбывания наказания. К последней группе заболеваний относится диагноз, верифицированный у А.Ю. Рыбакова.
На основании указанных фактов А.В. Пекшев делает следующие выводы:
- Факт нуждаемости А.Ю.Рыбакова в постоянной циторедуктивной терапии установлен в 2016 г. при верификации гематологического диагноза с бессрочным установлением II группы инвалидности. С учетом клинических данных о резистентности проводимой А.Ю .Рыбакову циторедуктивной терапии, ему показана её коррекция с применением риск-адаптированной стратегии, что относится к специализированной медицинской помощи, оказываемой в условиях гематологического стационара. Пребывание А.Ю. Рыбакова в местах лишения свободы с получением медицинской помощи в медучреждениях системы ФСИН исключает коррекцию циторедуктивной терапии с применением риск-адаптированной стратегии, что ставит под сомнение улучшение клинического течения заболевания, исключающее, в свою очередь, применение аллогенной трансплантации костного мозга.
- Зависимость назначения А.Ю. Рыбакову диагностической трепанобиопсии от уровня гематокрита в его анализе крови, сформулированная в п. 9 РКВЛ, является несостоятельной, клинически не обоснованной и препятствует выполнению требования анализируемого Заключения о госпитализации больного в гематологический стационар для подготовки к аллогенной трансплантации костного мозга при признаках прогрессии заболевания…
Суд и доводы сторон
По делу Рыбакова было несколько судебных разбирательств. Главный иск — к гематологу Шутылеву и МСЧ-59 ФСИН России о признании бездействия незаконным — рассматривался в Ленинском районном суде Перми. Осужденный требовал провести ему диагностику, аллогенную трансплантацию костного мозга, госпитализировать в специализированный стационар для лечения. Рыбаков объяснял, что 16 февраля 2022 года гематолог Шутылев изменил ему диагноз, не проведя никаких лабораторных или инструментальных исследований. Ему до сих пор не проведено «рекомендованное обследование в условиях гематологического стационара для определения тактики дальнейшего медикаментозного лечения».
Позже иск был объединен с двумя другими, которые рассматривались Соликамским городским судом, по неоказанию высокотехнологичной медицинской помощи и оспаривании заключения специальной медицинской комиссии.
Судебные заседания начались в Ленинском районном суде Перми 28 апреля 2022 г., решение было вынесено 30 мая 2023 года.
Доводы со стороны ответчиков выглядели, скорее, отговорками.
Гематолог Шутылев заявил, что в заключении ФКУЗ «Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Петрова» указано, что у административного истца нет показаний для трансплантации костного мозга. Но во всех имеющиеся в деле заключениях говорится, что выбор дальнейшей терапии возможен только по результатам трепанобиопсии.
Представитель ФСИН подчеркнул, что в ИК-9 выполняется «рекомендация, которая дана в последний раз по проведению терапии интерфероном». То есть из всех медицинских средств допустимой ему представляется только мучительная для пациента интерферонотерапия.
Также он посетовал на то, что «административный истец подает множество исков, в связи с чем медицинская документация курсирует от одного суда к другому. Чтобы куда-либо госпитализировать административного истца, вся медицинская документация должна быть у нас для направления в медицинской учреждение, в которое будет госпитализирован административный истец». Получается, что ФСИН пытается поставить больного осужденного перед выбором между исками и лечением, вместо того, чтобы просто сделать копии медицинских документов.
«Для проведения мероприятий, которые просит административный истец, необходим специальный инструментарий, которого нет в ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России», – заявил представитель ФСИН, хотя от тюремного ведомства требуется не проведение медицинских манипуляций, а освобождение больного или организация доставки его в медицинское учреждение.
Кроме судебного иска, 16 июня 2022 года Наталья Юренкова подала в СК заявление по факту оказания медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности, угрожающих жизни и здоровью ее сына. Следователь СК через 10 дней отказал в возбуждении уголовного дела, сославшись на письмо из Медицинского центра имени Бурназяна, в котором говорится, что диагноз Рыбакову установлен обосновано и что терапия основывается на национальных рекомендациях и международных протоколах лечения. Но следователь опустил остальные части письма, в которых говорится о переходе на другую терапию. Опять же, во всех отзывах из медицинских центров отмечается, что диагноз и начальная терапия Рыбакову выставлены правильно, но дальше нужно делать анализы и при необходимости рассматривать новые формы терапии.
Этот случай показывает, что медицинские дела позволяют недобросовестным ответчикам, следователям или участникам судебного разбирательства выдергивать из медицинских документов подходящие цитаты для обоснования практически любой позиции.
Судебно-медицинская экспертиза
Определением Ленинского районного суда от 18 августа 2022 г. была «назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза качества оказания медицинской помощи Рыбакову А.Ю.»
Из протокола судебного заседания 26 апреля 2023 года известно, что к этому времени пришли результаты судебно-медицинской экспертизы. Как заявила в судебном заседании представитель истца, «была проведена экспертиза, которой установлено, что все-таки было бездействие врача гематолога, были выявлены дефекты диагностики, которые ухудшают положение истца … В экспертизе указаны дефекты и бездействия врача Шутылева, в связи с тем, что данный врач наблюдал Рыбакова».
В своих пояснениях Шутылев заявил: «Мы видим по экспертизе от декабря 2021 года, что лечение проводилось правильно и в полном объеме, после декабря 2021 г. пациент находится в ФКУЗ МСЧ №59, мы к ним никакого отношения не имеем». Шутылев здесь не отвечает на предъявленную претензию: конечно же, он не имеет отношения к фсиновской МСЧ №59, но имеет непосредственное отношение к Рыбакову и его лечению.
Решение суда
30 мая 2023 года Ленинский районный суд Перми вынес решение по делу Рыбакова. В качестве обоснования решения суд привел выводы комплексной судебно-медицинской экспертизы, которая заявила, что гражданские медики лечили Рыбакова хорошо, а тюремные — плохо:
«До октября 2021 лечение проводилось в необходимом объеме и сопровождалось улучшением показателей крови. …На этапе лечения в ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России Рыбакову А.Ю. допущены дефекты оказания медицинской помощи:
– дефект диагностики – при ухудшении состояния с октября 2021г. … не проведено специализированное исследование – трепанобиопсия;
– дефект лечения – не проведена коррекция специализированной терапии при наличии отрицательной динамики развития заболевания, что связано с отсутствием проведения трепанобиопсии.»
Суд согласился с выводами экспертиза и пришел к выводу, что «ФКУЗ МСЧ-59 ФСИН России было допущено незаконное бездействие в связи с непринятием каких-либо мер по организации проведения Рыбакову А.Ю. специализированного диагностического исследования — трепанобиопсии».
В результате суд решил:
«Возложить на Федеральное казенное учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 59» ФСИН России, Главное управление ФСИН России по Пермскому краю, обязанность по принятию мер по организации проведения Рыбакову Александру Юрьевичу специализированного диагностического исследования — трепанобиопсии.
Взыскать с Российской Федерации в виде Федеральной службы исполнения наказаний за счет средств казны Российской Федерации в пользу Рыбакова Александра Юрьевича компенсацию морального вреда в размере 150 000 руб.»
Ответчики подали апелляцию, но судебная коллегия 17 августа 2023 г. не нашла оснований к отмене или изменению решения суда, и оно вступило в законную силу.
Однако один из выводов комплексной судебно-медицинской экспертизы позволил комиссии ФСИН заблокировать для Рыбакова возможность получить освобождение по болезни: комиссия дала двусмысленный ответ на вопрос о разных диагнозах:
«В ноябре 2015 года Рыбакову А.Ю. был постановлен диагноз «Эссенциальная тромбоцитемия, впервые выявленная МКБ-10 С 92.7». С марта 2016 года диагноз формулировался как «Хронический мегакариоцитарный лейкоз (эссенциальная тромбоцитемия)», в феврале 2022 диагноз был изменен на «Миелопролиферативное заболевание. Эссенциальная тромбоцитемия (МКБ-10:. D 47.З)». Изменение формулировок нельзя считать изменением диагноза, поскольку терминологически эти два понятия («хронический мегакариоцитарный лейкоз» н «эссенциальная тромбоцитемия») являются синонимами. Использование двух разных кодов МКБ-10 также не меняет диагноз. Таким образом. можно считать, что диагноз Рыбакову А.Ю. не изменялся, выставлен верно.»
При этом остался без ответа вопрос: почему тогда один диагноз допускает освобождение больного, а другой — нет.
Именно этой неопределенностью воспользовались медики ФСИН при вынесении решения 3-й по счету комиссии по освобождению по болезни.
Борьба за исполнение решения суда
Прошло семь месяцев со времени решения суда и четыре месяца с момента его вступления в законную силу, но трепанобиопсию Рыбакову так и не сделали, 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда не выплатили.
22 декабря 2023 года Наталья Юренкова подала сообщение о преступлении в пермский отдел Следственного комитета, она просила провести проверку по поводу неисполнения решения суда и привлечь виновных лиц к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта».
27 января 2024 г. следователь вынес Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против МСЧ-59 «в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления», указав, что «сотрудниками … ФСИН принимались меры по организации лечебно-профилактической работы Рыбакову А.Ю, … сформировали запрос во ФСИН России для выделения денежных средств.»
Из полученных следователем СК от сотрудников ФСИН объяснений становится ясно, что после вступления решения суда в законную силу они пальцем о палец не ударили, чтобы исполнить это постановление. Почему нужно было дожидаться исполнительного производства, то есть принудительного исполнения судебного решения? Ведь речь шла о здоровье человека, а не мелком хозяйственном споре. Но при чтении документов от сотрудников МСЧ совсем нет ощущения, что слышишь голос врача.
Следователь СК записал объяснения начальника МСЧ-59 А.Н. Касаткина, в которых тот сообщил, что «26.12.2023 в адрес МСЧ-59 поступил исполнительный лист, согласно которому в ОСП по Ленинскому и Индустриальному району г. Перми было возбуждено исполнительное производство в отношении МСЧ-59. О данном судебном решении ему было известно перед 26.12.2023, поэтому 01.12.2023 им было поручено заместителю начальника отдела организации лечебно-профилактической работы Хикматуллиной И.М. принять меры по организации указанного диагностического исследования Рыбакову А.Ю. …В настоящее время, 08.02.2024, Рыбакову А.Ю. запланирован этап в Пермь, чтобы оттуда вывезти его в Пермскую краевую клиническую больницу для проведения консультации у лечащего врача и принятии решения им о проведении указанного диагностического исследования».
Из этого объяснения получается, что Касаткин прямо-таки с упреждением принял меры к удовлетворению иска.
Однако это не соответствует действительности.
Согласно объяснениям Долгих М.В., заместителя начальника отдела судебных приставов по Ленинскому и Индустриальному районам Перми, «30.10.2023 ею по данному факту было возбуждено исполнительное производство № 301784/23/59004 и в этот же день направлено в адрес должника посредством единого портала государственных услуг, дата и время прочтения уведомления должником 07.12.2023. Также, 19.12.2023 в адрес МСЧ-59 было направлено заказным письмом постановление о возбуждении исполнительного производства, так как не было уведомления со стороны МСЧ-59 о получении постановления».
То есть еще 30 октября письмо было послано должнику, но он не открывал его до 7 декабря — больше месяца. И уведомление о прочтении не послал, пока 19 декабря не было отправлено бумажное заказное письмо.
Следователь СК пытается выгораживать коллег-силовиков: «Должностными лицами МСЧ-59 начали приниматься меры по исполнению решения суда еще до поступления исполнительного листа в адрес МСЧ-59, никаким образом не исполнять решения суда у него и иных должностных лиц умысла не было», — пишет он в ПОВУД.
В документах доследственной проверки обнаружилась объективная сторона медлительности тюремной медицины. Согласно объяснениям майора внутренней службы Хикматуллиной И.М., заместителя начальника отдела организации лечебно-профилактической работ МСЧ-59, «порядок вывоза в Пермскую краевую клиническую больницу для проведения трепанобиопсии следующий:
– с пациента берется согласие для вывоза и проведения консультации;
– сбор пакета документов (берется справка из личного дела, характеристика на осужденного — по месту отбывания наказания, запросы в оперативное управление ГУФСИН России по Пермскому краю для согласования вывоза, после получения положительного результата оформляется наряд за подписью руководителя ГУФСИН России по Пермскому краю);
– направление в медицинское учреждение, проводящее консультацию пациента, анализов пациента для проведения предварительной консультации…;
– …производится запись в учреждение здравоохранения Пермского края (ПККБ), и при наличии ближайшей записи осужденный направляется в учреждение ГУФСИН России по ПК, расположенный в г.Перми, то есть это обычно СИЗО-6, СИЗО-5;
– далее по прибытии в указанные учреждения, согласно записи осужденный вывозится на консультацию в медицинское учреждение к лечащему врачу…
…В настоящее время ею и ее подчиненными собрана документация, необходимая для этапирования Рыбакова в учреждения ГУФСИН в г. Перми… Ею также подготовлен в настоящее время наряд для отправки Рыбакова, в ближайшее время будет согласована дата консультации и Рыбаков будет направлен в Пермь к лечащему врачу. …Таким образом ею и остальными работниками МСЧ-59 проводятся все необходимые меры для проведения диагностического исследования…»
Из объяснения начальника МСЧ-59 Касаткина всплывает еще одна неторопливая механика: выплат по гражданским искам.
Деньги ответчикам «приходится запрашивать у ФСИН России и согласно ведомственным приказам, …выделение указанных денежных средств возможно только после проведения служебной проверки, которая была проведена в период с 20.12.2023 по 8.01.2024, по ее результатам никто не был наказан. В настоящее время формируется запрос во ФСИН России для выделения денежных средств, в связи с этим получаются реквизиты счета осужденного и вместе с этим запросом отправляются во ФСИН России, который рассматривает их запрос и выделяет денежные средства МСЧ-59 и далее со счета МСЧ-59 денежные средства направляются осужденному. Денежные средства будут переведены на счет Рыбакова ориентировочно в конце февраля 2024 года».
Саботаж продолжается
24 февраля 2024 года Рыбаков был, наконец, доставлен в гражданскую больницу. Но никакую трепанобиопсию, несмотря на ожидания и вопреки решению суда, ему не сделали. Он попал на совместный осмотр тех же гематологов Пермской краевой клинической больницы Шутылева и Косачевой, которые снова, как и два года назад, написали в своем решении, что трепанобиопсия Рыбакову в принципе показана, но не сейчас. 16 февраля 2022 года, в заключении этих же врачей условием называлось «снижение показателя гематокрита …до уровня не выше 50%, с целью профилактики …осложнений». В феврале 2024 г. таким условием стало «достижение уровня тромбоцитов менее 1000х109/л», поскольку «с учетом гипертромбоцитоза проведение дополнительных инвазивных вмешательств сопряжено с высоким риском тромбо-гемморагических осложнений».
Напомним, такой подход был опровергнут доцентом кафедры медицинского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) канд. мед. наук Пекшевым А. В. в заключении от 16 марта 2023 года. Он указывал, что «абсолютных противопоказаний для выполнения трепанобиопсии костного мозга… не существует. С необходимыми предосторожностями эти манипуляции могут быть выполнены всем нуждающимся пациентам, в том числе и с глубокой тромбоцитопенией… Более того, прямое требование игнорировать угрозу геморрагических осложнений включено в действующие клинические рекомендации по диагностике и лечению лейкозов».
Решение суда от 30 мая 2023 г. возложило на МСЧ-59 «обязанность по принятию мер по организации проведения Рыбакову Александру Юрьевичу специализированного диагностического исследования — трепанобиопсии». Но тогда же суд исключил из числа ответчиков гематолога Шутылева, что, скорее всего, позволило последнему в очередной раз отказать в проведении необходимой медицинской манипуляции.
Ранее именно решением Шутылева и Косачевой диагноз Рыбакова был изменен таким образом, чтобы гарантировать невозможность его освобождения по болезни.
Иск о предельных сроках
Откровенное затягивание исполнения решения суда привело к тому, что 1 июля 2024 года Рыбаков подал к ФСИН и Минфину России судебный иск, в котором просил взыскать в свою пользу компенсацию за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в размере 1 млн. рублей.
В конце концов, Рыбакову сделали трепанобиопсию — но это произошло только 2 декабря 2024 года, через 18 месяцев после решения суда. Ее результаты и медицинские выводы пока неизвестны.
Компенсация морального вреда в 150 тысяч рублей, назначенная судом 30 мая 2023 года, была выплачена в августе 2024 года, то есть через 14 месяцев после решения суда.
Подмена диагноза
Рыбаков не смирился также с заменой диагноза. 22 января 2024 г. он направил в Следственный комитет сообщение о преступлении, в котором просил провести проверку по факту служебного подлога сотрудников филиала «Больницы 2» ФКУЗ МСЧ №59 ФСИН России, которые, по его мнению, 28 февраля 2022 года провели заседание врачебной комиссии, в ходе которой подменили диагноз. Такую же подмену, по мнению Рыбакова, они совершили во время заседаний врачебных комиссий 6 декабря 2022 года и 15 ноября 2023 года.
Через десять дней, 2 февраля, следователь СК вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела: «в ходе проведения настоящей проверки не установлено в деянии начальника филиала «Больница № 2» ФКУЗ МСЧ -59 ФСИН России Пастухова А.Ж. признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.292 УК РФ». Опрошенный следователем Пастухов заявил, что диагноз D 47.3 был установлен 16.02.2022 в Пермской краевой клинической больнице. Врачебная комиссия ФСИН руководствуется Перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, а диагноз D 47.3 в Перечне отсутствует.
К таким последствиям привели выводы СМЭ о синонимичности старого и нового диагнозов и вывод, что «диагноз Рыбакова А.Ю. не изменялся.» К сожалению, суд такую позицию утвердил, не задаваясь вопросом о причинах изменения диагноза на «синонимичный» и не обращая внимания на то, что первый диагноз есть в списке на освобождение по болезни, в второй, «синонимичный», в этом списке отсутствует.
27 мая 2024 г. была подана жалоба в Соликамскую городскую прокуратуру с просьбой отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, провести более тщательную проверку и привлечь виновных к ответственности. Однако уже 5 июня из прокуратуры был получен ответ, в котором говорилось, что «основания для отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 02.02.2024 года по материалу проверки КРСП 50 от 23.01.2024 не имеется».
Тем не менее, 11 октября 2024 года Рыбаков подал в Ленинский районный суд г. Перми иск об оспаривании выводов врачебной комиссии.
В обосновании иска Рыбаков ссылается на заключение специалиста Пекшева А.В. от 16.03.2023 года, в котором тот утверждает, что Рыбаков нуждается в специализированной высоко-технологичной медицинской помощи, которая оказывается в условиях гематологического стационара, а не в медучреждениях ФСИН.
По мнению Рыбакова, установленная СМЭ синонимичность двух диагнозов, предполагает, что оба они действительны, однако в Протоколе решения врачебной комиссии значится только один диагноз, не указанный в пункте Перечня заболеваний.
Резюме
Особую роль в деле Рыбакова играет судебно-медицинская экспертиза и другие медицинские заключения. Они дорогостоящие, организация их требует усилий, ошибки или недоработки экспертизы прямо влияют на судьбу больного заключенного. Выбирая подходящие медицинские заключения стороны спора и сам суд могут отстаивать разные позиции.
В данном случае суд отверг заключении доцента кафедры медицинского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) кандидата медицинских наук А.В. Пекшева, в котором сказано, что необходимую медицинскую манипуляцию проводить можно и ограничений нет. В то время, как гематологи Шутылев и Косачева дважды под разными предлогами отказывали Рыбакову в этом.
Суд также уклонился от оценки противоречия двух диагнозов, что позволило тюремной врачебной комиссии произвольным образом трактовать заболевание Рыбакова и отказать ему в освобождении по болезни.
Очень важно, что именно гражданские врачи Шутылев и Косачева предложили медицинскую формулировку заболевания, которая исключает освобождение Рыбакова по болезни, именно они поставили целью лечения не предотвращение перерождения болезни в смертельно опасную форму, а предложили, наоборот, сначала дождаться такого перерождения, а потом думать о возможной смене терапии.
Отметим, что активная про-фсиновская позиция гражданских врачей встречается и в других наших кейсах.
Освобождение по болезни – только одна из медицинских проблем в системе ФСИН. В этом случае она связана с общим уровнем фсиновской медицины: там, где гражданская медицина предлагает интенсификацию лечения, тюремная — простейшие методы консервативного лечения и анализ крови в качестве передовой диагностики.
При этом приказом Минюста №285 от 28.12.2017 года был утвержден «Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы», в котором были зафиксированы гарантии получения медицинской помощи осужденными в соответствии со стандартами Минздрава, то есть осужденным гарантированы такие же возможности получения медицинских услуг и при этом такого же качества, что и в гражданской медицине.
Случай Рыбакова, как и другие наши кейсы, показывает, насколько этот принцип далек от воплощения на практике.
Апрель 2025